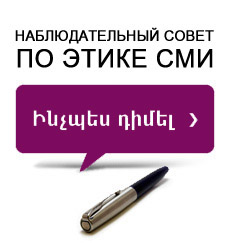|
ЛЕВОН ГРИГОРЯН:
|
12 апреля 2004 организованные в Ереване оппозиционными политическими
силами шествие и митинг около Национального Собрания Армении закончились разгоном
демонстрантов. Около 00:30 на проспекте Баграмяна было отключено уличное освещение,
и примерно в 2 часа ночи пикет демонстрантов был разогнан силовыми структурами
с применением спецсредств — водометов, взрывпакетов, резиновых дубинок, электрошокеров.
В числе пострадавших оказались четверо журналистов, освещавших происходящие
события. По ряду эпизодов, касающихся представителей СМИ, были возбуждены уголовные
дела. С тех пор прошло семь месяцев. Но по сей день никто не понес наказание
за избиение журналистов. Более того, делаются попытки предать забвению или представить
в безобидном свете события той злополучной ночи. Именно поэтому мы решили в
деталях описать то, что произошло с оператором, ныне исполняющим обязанности
руководителя корпункта Первого канала (ОРТ) в Ереване Левоном Григоряном с его
же слов.
— Первый канал поручил мне подготовить репортаж о ночном пикете. Где-то минут
за 15-20 до начала известных событий я подъехал поближе к месту сидячей забастовки
и начал снимать. Обстановка была спокойная, я даже подумал, что все уже заканчивается.
Потом вдруг почувствовал как наступила тишина — очень странная, абсолютная тишина.
Я увидел, что один ряд колючей проволоки убирают. Подумал, ну слава Богу, раз
проволоку убирают, значит и впрямь все заканчивается. Потом к первой линии заграждения
совершенно беззвучно подкатила водометная машина и начала мощным потоком обливать
людей. Люди, конечно, возмутились, вскочили и стали бросать палки, пластиковые
бутылки в эту машину за колючей проволокой. Машина спокойно продолжала свое
дело. Я опять подумал, что на этом все закончится: люди, облитые, разойдутся
по домам. И вдруг с двух сторон начали выдвигаться солдаты. Но опять провокации
никто не ожидал, поскольку они все равно оставались за проволокой. Внезапно
они начали бросать взрывпакеты, а со стороны бюро пропусков Национального Собрания
— то есть, уже по эту сторону заграждения, где были демонстранты — молниеносно
выскочили спецназовцы с электрошокерами в руках и перегородили всю улицу. Люди,
фактически, оказались запертыми в ловушке, свободным оставался лишь узкий проход
на противоположной стороне тротуара. И началась бойня. Я с камерой стоял у первой
линии заграждения и снимал происходящее, затем перешел на противоположную сторону
улицы и вместе с толпой начал отступать к Оперному театру. Неожиданно из толпы
на меня напали четверо в гражданской одежде и начали вырывать камеру.
— А они до этого к вам как-то обращались, типа «прекратите съемку,
не снимайте»?
— Нет, они просто сзади напали на меня, причем непонятно, кто были эти люди.
Спецназовцы же были кто в касках, кто в красных беретах. Я как фронтовой оператор
прошел практически всю карабахскую войну, и поэтому среди спецназовцев, которые
были в красных беретах, увидел знакомых ребят: они посоветовали мне побыстрее
уходить. Но эти четверо в штатском просто принялись отбирать у меня камеру,
завязалась потасовка. Я одной рукой держал камеру, а другой рукой и ногами пытался
отбиваться. Но одному драться против четверых, да еще с тяжелой профессиональной
камерой на плече очень тяжело. Один из этих четверых, маленького роста, зашел
сзади и изо всех сил врубил мне по носу. У меня брызнула кровь, я потерял ориентировку,
но камеру все равно не выпустил. Тогда эти четверо вытащили меня на проезжую
часть, где орудовали спецназовцы. Ко мне подбежали люди в касках, по-моему их
было шестеро или семеро, и со всех сторон начали тыкать меня электрошокерами.
— Вы не теряли сознание?
— Нет, но знаете, когда вас бьют по рукам, бокам, ногам электрошокерами, эти
части тела на некоторое время парализуются. Эти ребята, спецназовцы, ведь видели,
что какие-то гражданские лица напали на меня — с профессиональной камерой в
руках, с лейблом телекомпании Первый канал, в операторской куртке, и они к этим
в гражданской одежде не применили насилия, а начали бить меня. Я упал, эти в
гражданском забрали камеру и ушли, а спецназовцы продолжали меня избивать. Они
были в касках с забралом, и поэтому лиц я рассмотреть не мог. Они меня, парализованного,
добивали на асфальте дубинками и ногами. Когда действие электрошока начинало
чуть-чуть проходить и я пытался встать, они опять пускали шокеры в ход, не давая
мне возможности подняться. А потом снова били дубинками и ногами.
— Они что-то вам говорили?
— Я слышал только голос одного парня, который все время орал: «Не смотри
на меня!» Потом они набросили мне на лицо мою куртку. И все время чертыхались,
что моя кровь попадает им на одежду. Там еще кто-то все время брызгал мне в
глаза газ из баллончика, чтобы я вообще ничего не видел. Не знаю, сколько времени
это продолжалось, но потом я услышал, как кто-то сказал: «Ладно, хватит,
он уже подыхает, оставьте его.» И они схватили меня за плечи, как тряпку,
поволокли на тротуар и бросили под деревом. Когда боль чуть притупилась, я подумал,
камеры нет, сотового телефона нет, никаких моих вещей нет. И начал, ползая на
коленях, искать свои вещи.
Знаете, для меня вдвойне-втройне обидно, что, пройдя всю карабахскую войну
как фронтовой оператор, в мирное время, я, делая свою работу, не будучи хулиганом
или кем-то там еще, подвергся не просто избиениям, меня попросту убивали. Они
ведь не выбирали какие-то места, менее болезненные, не жизненно важные, они
били без разбора, куда попало. У меня потом на голове были полосы от дубинок.
За что?
— А может они убивали вас именно потому, что вы журналист?
— А другого объяснения этому уже нет.
— Что было потом?
— Потом подъехала машина «скорой помощи». Знаете, я ведь кавказский
человек и воспринял все происшедшее со мной как оскорбление. Если бы один на
один я бы смог дать достойный отпор, но когда на тебя нападают вот так… Я
был в таком озверелом состоянии, что, когда «скорая» остановилась
— наверняка, кто-то сказал, там какой-то труп лежит под деревом — и врач подошел
ко мне, я помню, что начал крыть его матом. Он сказал, что хочешь мне говори,
только дай возможность тебя осмотреть. Я ведь был кровавым месивом. Они оказали
мне первую помощь, потом поискали вместе со мной мои вещи и посадили в машину.
В «скорой» уже было несколько человек, помню одну женщину, которую
очень сильно ударили дубинкой по ноге, и она не могла ходить. Я отказался ехать
в больницу и попросил отвезти меня в наш корпункт, чтобы я мог связаться с Москвой.
Одежда моя была вся изодрана в лохмотья, я весь в крови, в воде, а в этот день
я, как назло, еще был в обновках. И тут я наверное совершил большую ошибку.
Когда ко мне в корпункт пришли коллеги из телекомпании «А1+», я не
разрешил им снять себя в таком виде. Мне было неудобно. Но жизнь еще раз подтвердила,
что она — шоу, и надо поступать согласно этому жанру. Если бы я разрешил съемку,
ни у кого бы потом никаких вопросов не возникло. А я позволил только заснять
свою операторскую куртку. Я позвонил в Москву, рассказал про то, что случилось,
что я лишился камеры, кассеты и всего остального, и у меня нет никакого материала,
чтобы передать его утром. Потом я пошел домой, искупался, вернулся на работу,
и где-то через час мне стало плохо. Меня отвезли домой. Я в жизни не мог себе
представить, когда говорили, что от побоев опухают, а тут начал сам на глазах
пухнуть. Утром я уже не мог двигаться вообще. Позвонил в Арабкирское отделение
полиции и заявил о случившемся. Я сразу представился, сказал, что я сотрудник
Первого канала. Буквально минут через 15 ко мне приехали три представителя полиции,
составили протокол. Они сказали, что надо пройти судмедэкспертизу. И, по-моему,
только на следующий день я смог с помощью друзей поехать на обследование. Мне
сделали рентген, другие вещи. Оказалось, что у меня сломан нос, сильно повреждена
правая рука, которой я во время потасовки с гражданскими удерживал камеру, другие
многочисленные повреждения.
— Вам дали официальное заключение медицинского освидетельствования?
— Нет, мне сказали, что потерпевшему на руки такое заключение не выдают, оно
идет в дело, а в прокуратуре уже можно получить выписку из него. Слава Богу,
что у меня есть копии бумаг, которые я получал, когда ходил по кабинетам на
обследовании. Я знал, с кем имею дело, и на всякий случай все отксерокопировал
и оставил у себя.
14 апреля мне позвонили из Арабкирского отделения полиции и сказали, что моя
камера нашлась, она в пресс-центре полиции РА. Камера была сломана, конечно
же, без кассеты. Ведь вся заварушка именно из-за кассеты произошла. У меня ведь,
когда гражданские на меня напали, камера все время работала.
— Вам как-то объяснили находку камеры?
— Это, как анекдот, то что мне сказали. Мне объяснили, что несколько неизвестных
лиц нашли в кустах камеру и сдали ее в полицию. Профессиональную камеру стоимостью
в несколько тысяч долларов… Ну, хорошо… Я благодарен, что очень быстро нашли
мою камеру, нашли и вернули мне сотовый телефон и остальные вещи. Мне, наверное,
повезло больше, чем другим пострадавшим коллегам, некоторым из них, насколько
мне известно, до сих пор ничего не вернули. Повезло в том смысле, что я российский
корреспондент и моим делом занимались особо. От министра ВД России в МИД России
была передана бумага, чтобы моим делом срочно занялись. Со мной беседовал представитель
российского посольства в Армении.
Если в самом начале, когда я обратился в Арабкирское отделение полиции, протокол
о происшедшем был составлен на трех листах, то потом, когда дело было переведено
в Генпрокуратуру, взято под личный контроль Генпрокурора, был подготовлен подробный
детальный отчет. Следствие велось очень корректно, без нажима. Меня неоднократно
вызывали давать показания. Ну это все понятно, я как сейчас вам рассказываю,
так и им все рассказал.
— А при этом вас просили, к примеру, попробовать опознать тех четверых
в гражданском?
— Да, конечно. Но я не могу их опознать. Напали они очень неожиданно, сзади,
я только смутно помню, что один, который врезал мне по носу, был маленького
роста, а другой — толстый, в черной куртке и черной кепке. И все, больше я ничего
не помню. Но тут ведь как получается. Если они были в гражданском, значит, возможно,
это были митингующие. Но тогда зачем они сдали меня спецназовцам?! Спецназовцев
я тоже опознать не в состоянии — их лица были скрыты. Мне ведь потом и из президентского
аппарата, и из парламента звонили, спрашивали, могу ли я кого-нибудь опознать?
И следователи говорят, вот если бы ты опознал кого-то, а так нет конкретных
лиц, кого можно было бы обвинить. Получается, что мое дело тупиковое? Я им говорю,
ребята, а кто мне возместит материальный ущерб — камера ведь дорогая. Я не говорю
уже о моральном ущербе, об этом в нашем государстве вообще вряд ли можно говорить.
Мне отвечают, наше дело найти виновных, и если найдем, то суд решит, кто будет
возмещать убытки.
— Что на сегодняшний день вам известно о ходе расследования вашего
дела?
— Практически, ничего. Я написал официальный запрос в Генпрокуратуру. Они
мне ответили, что ведется следствие.
— То есть, дело не закрыто, следствие продолжается.
— Выходит, что так. Но кто может за все это отвечать? Я не знаю. Но я очень
оскорблен, что в моей стране, в мирное время, со мной, который выполнял свою
работу, произошло подобное. Мне многие говорят, тебе еще повезло, что тебя не
прикончили.
— Во сколько процентов вы оцениваете шансы на то, что ваше дело будет
раскрыто?
— Ноль шансов, никаких шансов. Потому что мне говорят, ты можешь опознать лица?
Нет. И все, если я не могу никого опознать, значит так тому и быть?!
— Возможно ли, что, если даже не найдут конкретных виновных лиц, ответственность
понесет структура, к которой они относятся?
— Конечно, нет. Это вопиюще, то что произошло, то что с журналистами могут
так обращаться. Ну ладно, есть же много других способов запретить журналисту
работать. Ну, просто подойдите, скажите, вы не можете снимать, отнимите кассету,
а вот так убивать меня — только за то, что я снимаю…
— В последующие после апрельских событий дни один высокопоставленный
чиновник сказал о необходимости для журналистов иметь особую одежду, которая
бы сразу выделяла их из толпы — с тем, чтобы в подобных ситуациях правоохранительные
органы могли отличить журналистов от других людей. Предположим, хотя это из
области фантастики, что те, кто вас бил — и в гражданском, и спецназовцы — не
поняли, что у вас в руках профессиональная камера, не увидели на ней лейбла
Первого канала. А если бы на вас была униформа, не оставляющая даже ночью ни
малейшего сомнения, что вы — журналист, с вами поступили бы также?
— Я более, чем уверен, что да. Те, кто меня бил, я слышал, как говорили, ах,
ты для Москвы снимаешь, сейчас ты у нас поснимаешь. И знаете весь парадокс заключается
в том, что моя телекомпания — Первый канал невероятно лоялен к властям Армении,
и при этом меня, представителя этого канала, пытались убить.
— Что можно сделать для защиты журналистов от насилия?
— Смотрите, 5 апреля поразбивали камеры, в следующий раз устроили бойню. А
дальше что будет? Уже есть разбитые камеры. Уже есть битые журналисты. А дальше
будут убитые журналисты?.. Я был очень тронут вниманием, которым меня окружили
коллеги в те дни. Отовсюду были звонки… Но если бы все журналисты, независимо
от того, в каких СМИ они работают, просто как люди, объединенные профессией,
хотя бы на один день встали и сказали, мы прекращаем свою работу в знак протеста,
потому что нас убивают, может, что-то бы и изменилось.
— А вы верите в возможность такой солидарности у нас?
— К сожалению, нет. Хотя мне очень бы хотелось в это верить. Но ведь завтра
подобное может произойти с любым другим. И чтобы этого не произошло, наверное,
всем нам надо объединиться. Знаете, не хочется произносить громких слов, я не
публичный человек. Я не привык давать интервью, я привык быть по ту сторону
камеры. Но закрыв одно дело, второе дело, мы придем к третьему делу. Наверняка,
оно будет страшнее предыдущих, окончившихся, слава Богу, без смертей. Если мы
оставим это все безнаказанным, то это третье дело, когда руки уже полностью
развязаны, будет ужасным.
— Не боитесь продолжать работать?
— Нет, абсолютно. Это может громкие слова «смотреть смерти в лицо»,
но я прошел карабахскую войну от начала до конца и действительно смотрел смерти
в лицо. Я освещал события в Грузии — всю революцию роз, все аджарские события.
То есть, у меня большой опыт работы в горячих точках. Но чтобы вот так попасться,
чтобы с тобой в собственной стране такое случилось… Я не то, чтобы обижен,
я очень и очень оскорблен.
P.S. Оператор Левон Григорян, или Большой Лева, как его называют
друзья и коллеги за мощное телосложение и высокий рост, родился в 1957 в Ереване.
На телевидении — с 1980. За свою почти четвертьвековую карьеру работал на единственном
в советское время гостелевидении, затем в первой частной телекомпании «А1+»,
сотрудничал с программой «Вести» российского канала РТР, с «Би-Би-Си»,
«Скай ньюс», «Си-Эн-Эн». На Первом канале — с 1993.
Первой горячей точкой в его жизни и профессии стал Карабах. «В 1988, когда
конфликт только начинался, я записался в добровольческий отряд. Но вскоре понял,
что это не для меня, я не смогу убивать людей. Вернулся в Ереван, взял камеру
и буквально с самых первых дней войны работал в Карабахе. Начал с освещения
событий в Шаумяновском районе. Он был тогда в окружении, и именно там впервые
азербайджанцы по ночам начали применять установки «Град». Мы считали
очень важным снимать происходящее — как доказательство начала полномасштабных
военных действий. И знаете, ведь тогда никто из нас не думал заработать какие-то
деньги, мы просто хотели, чтобы мир увидел правду.»
Элина ПОГОСБЕКЯН